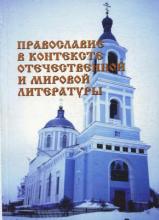В.П. Владимирцев
Я лгу! Да вот тебе Великое Слово не лгу.
Ф. М. Достоевский. Сибирская тетрадь. Запись 382
В народной культурно-речевой деятельности Достоев¬ский искал и находил -- всего лучше свидетельствует о том его потаенно-подпольная “Сибирская тетрадь” (СТ) -- Вели¬кое Слово низовой России, этнически характерные “разго¬воры” “нашего демоса” .
Недопонятая и недооцененная, в сущности полузабытая (сравнительно с романами и публицистикой), СТ продолжа¬ет оставаться для абсолютного большинства исследователей (особенно Запада, из-за непереводимости ее текстов) на пе¬риферии науки, не совсем благозвучно именуемой достоев¬сковедением. В самых солидных и авторитетных истори-
ко-литературных и поэтологических работах о творчестве Достоевского СТ даже не упоминается. Поневоле задаешь¬ся не риторическим вопросом: да читают и перечитывают ли уважаемые коллеги “Тетрадь”, столь заветную для авто¬ра “пятикнижия” и “Дневника писателя”? Если СТ где-то
и фигурирует, то в роли фигуранта последней степени лите¬ратуроведческого значения. Как нечто служебно-вспомога¬тельное, мелочно-преходящее, разумеется, не первостепен¬ное -- эпизодный штрих из каторжной истории писателя. Обидно за Достоевского! Рукопись (автограф) СТ только потому счастливо и дошла до нас, что была оберегаема пи¬сателем как зеница ока. Сторониться “Тетрадки каторж¬ной”, право, недостойно…
СТ известна науке многим более полувека, однако итоги ее изучения не отвечают современным требованиям, предъ¬являемым к истории русской литературы. Мы плохо зна-
ем главное -- общие и частные эволюционно выстроенные отношения СТ ко всему творчеству Достоевского. Да и
сама тетрадная материя не исследована с наивозможной полнотой.
От ведущих специалистов по Достоевскому (например, от Б. Н. Тихомирова) приходилось слышать: “тетрадку ка¬торжную” нельзя принять за исходный и ключевой образец (модель) при рассмотрении проблем народности творчества писателя, ибо герой-протагонист (т. е. народ) СТ весьма да¬лек от наших представлений о русском народе как народе христианском (по Достоевскому). Аналитическая проверка материалами “Тетради” обнаруживает другое. Я уже писал об этом в сопроводительной статье и примечаниях ко вто-рому отдельному (петрозаводскому) изданию СТ . Пред¬стоит развить высказанные соображения, чтобы придать им необратимый системно-концептный вид.
Решение вопроса о христианской природе народных за¬писей Достоевского в СТ должно быть по необходимости двояким, вернее двуединым, соответственно субъекту и объекту “Тетради”.
В СТ совмещены две личности: автора (единично-инди¬видуальная) и народа (многоликая и тысячеустая). Они объяты отношениями предельной взаимной, физической
и внутренней, дополнительности, кровно-этнического и ду¬ховного (религиозного) родства. Личность Достоевского (записывателя, или писателя) проявляется в отборе, содер¬жании, формах и композиционном расположении материа¬лов СТ, а также во всякого рода маргиналиях к ним / в них. Это личность впечатлительного, любознательного и глубо-комысленного русского дворянского интеллигента-христи¬анина, гения литературы, богоданно призванного к своему особому предназначению -- уловить и выразить в массовом устном слове типические характерности собеседующего
о всякой всячине народного человека.
Страстное (определение соотношу со “страстями Господ¬ними”) личное отношение Достоевского к происходящему с людьми на каторге составляет психоидеологическую ос¬нову СТ. Не подобает упускать из виду, что “Тетрадь” напи¬сана в известном смысле по драматургическому принципу. Общая и единая структура всего свода ее записей по сути дела -- цепное сочленение взаимосвязанных “разговоров”-сцен и авторско-режиссерских ремарок и дополнений к ним. Внешняя, условно-формальная “драматургия” органична внутреннему, действительному драматизму СТ, христиан-
скому гуманоцентричному в евангельском смысле слова. Достоевский вел записи не из праздного и скучающего лю¬бопытства или других графоманских побуждений. Заканда¬ленный (буквально!) и страшно мучимый запретом на ка¬кое бы то ни было писательство, он тайком, рискуя быть изобличенным и наказанным, записывал документальные речевые картинки из быта своих “братьев по несчастью” (28, кн. 1, 208). В сложных мотивах секретной острожной литературной деятельности христианское сострадание ав¬тора к несчастным (эта формула народного юридического иде¬ализма философски разъяснена и поддержана Достоев¬ским в “Дневнике писателя” за 1873 год) играло ведущую роль. Исподволь заполняя самодельную СТ, писатель был дви¬жим христианским милосердием: сопереживал “бедным лю¬дям” каждой записи, даже когда те подразумевались “за¬текстно”, были в положении “внесценических” героев. Мне уже приходилось говорить о скрытом глубочайшем драма¬тизме сухой лаконичной записи 167 “Трека, чеква, пятит-
ка, полняк”. Этими тюремно-каторжными измерительны-
ми (счетными) арготизмами Достоевский, в соответствии
с устной культурной традицией “братьев по несчастью”, за¬шифрованно-эвфемически обозначил жуткие тысячи (три, четыре, пять и двенадцать -- “полняк”) палочных ударов, которые мог получить и получал телесно наказываемый
в карательном порядке арестант. Жертвы экзекуций неред¬ко забивались до полусмерти, а то и насмерть, когда приме¬нялась мера от “треки” до “полняка”. Сохранилось воспоми¬нание госпитального фельдшера: такие случаи Достоевский, преисполненный дара и долга христианского сострадания
к ближнему (“бедному”, “униженному”, “оскорбленному”), переживал крайне болезненно . Но если бы мемуарные ука¬зания на сей счет отсутствовали вовсе, преднамеренно-тща¬тельное занесение в СТ “технических” выражений, связан-ных с кнутобойным режимом военно-каторжной тюрьмы
(в Омске), свидетельствует за себя: христолюбивое сердце Достоевского кровоточаще отзывалось на акты бесчело¬вечных расправ над людьми (см. записи 5, 8, 31, 35, 36, 41, 42, 97).
Автора СТ объединяла с “братьями по несчастью” не только участь изгоев, отбывающих суровое исправитель-
но-уголовное наказание. Не менее -- религиозно-нравствен¬ная общность, национально-этническое самосознание, куль¬турно-речевые традиции. В каторге Достоевский впервые (и до конца жизни) ощутил себя органической частью ве¬рующего во Христа народа, “демоса”, “почвы” Отечества, духовно встал на сторону “несчастных” героев СТ, чтобы, по прошествии лет, написать лучшие народнические стра-
ницы “Дневника писателя” и объясниться с Россией от
имени представляемого им народа (мысль проницательного В. В. Розанова ).
Культура православного христианского чувства -- доб¬рого, сострадательного, мудрого, всеотзывчивого, “зоси¬мовского” -- выразительнее всего проявилась в словесном
и психоидеологическом народничестве СТ. Субъект “Тетра¬ди” осознанно, с пытливостью социально-психологическо-
го исследователя прикоснулся к множеству необозримых (и не освещавшихся в русской этнологии прежде) сторон народной жизни. Замечательно, с точки зрения христиан-
ского гуманоцентризма, что среди текущих “разговоров” писатель выделил притчевый диалог такого философско-психологического содержания: “Ты кто? -- Да я-то, брат, покамест еще человек, а ты-то кто?” (запись 342; выделено мной. -- В. В.). Каторга не вынудила Достоевского-христиа¬нина потерять веру в человека -- напротив, очистила и укре¬пила ее. В конечном результате христианским братолюбием писателя продиктованы все без исключения записи СТ. Со¬шлюсь вновь на автопризнание Достоевского в семипала¬тинском, еще “пахнущем” каторгой, письме А. Н. Майкову от 18 января 1856 года: “…даже каторжные не испугали ме¬ня -- это был русский народ, мои братья по несчастью, и
я имел счастье отыскать не раз даже в душе разбойника
великодушие, потому собственно, что мог понять его…” (выделено мной. -- В. В.). Острожное (насильственное) со¬общество вряд ли можно считать братством в принятом смысле этого слова. Однако для Достоевского, судя по идее и лексикону исповедального признания, это не сов-
сем так или совершенно не так (см. оппозицию понятий “несчастье” / “счастье”). По крайней мере, его личное бра¬толюбивое (чисто христианское, хотя в письме к Майкову впрямую о том ничего вроде бы и не сказано) отношение
к “разбойникам” (24, 106) являлось наличной (и спаситель¬ной, кстати) духовной потребностью (см. мемуарный очерк-исповедь о каторге и детстве писателя -- “Мужик Марей”). В этом свете очень распространенная в СТ народная форму¬ла именования-обращения “брат” (записи 16, 26 и многие другие) -- не пустая, не машинальная, копиистски выхва-
ченная из устного обихода речевая деталь текстов, а нечто важное, коренное, этнохристианское. Достоевскому явно импонировал “братский” речевой этикет (с видимой охотой и постоянно Федор Михайлович пользовался им в письмах брату Михаилу), и “Тетрадь” сфокусированно отразила этот бытовой психологический факт из “мертводомной” жизни писателя и “несчастных” “разбойников”, его братьев во Христе.
Внетекстная, невидимая, но реальная (“когнитивная”) личность субъекта СТ сливается с острожной массой, объек¬том записей, как часть с целым (об относительной неполно¬те слияния см. записи 59 и 156). И нет ничего удивитель-
ного в том, что именно Достоевский, слишком, казалось
бы, “городской”, “петербургский” писатель, внес в русскую этнологию оставшееся незамеченным фундаментальное по¬нятие “народная личность” (21, 257; выделено мной. -- В. В.). Писатель внутренне пришел к этому категориальному по¬нятию (равно к смежным: “народная культура”, “народный театр” ) во время своей единой с народом жизни на каторге, и СТ -- самое убедительное тому подтверждение.
В чем состоят положительные свойства “народной лич¬ности”, если исходить из христиански окрашенных заметок, которые писатель выбрал для СТ?
В материалах острожного произведения Достоевского обычно видят темные стороны -- сплошь знаки беды, го-
рестей, отчаяния, посюстороннего ада. Социальный негатив, однако, не составляет всей правды и фактологии СТ. Свет¬лых начал в “Моей тетрадке каторжной” не так мало, чтобы иметь право пренебрегать ими.
Сфера светлого -- православно-христианская стихия тет¬радных записей. Ее соприродными по отношению друг
к другу носителями и выразителями выступают автор и объект его наблюдений и размышлений -- каторжный люд. В этой поэтико-структурной связке таится одна из глав-
ных сущностей СТ. Достоевский-каторжанин изучал “на¬родную личность” с неспешной основательностью, впол-
не лабораторно, пользуясь своим психологическим микро¬скопом, -- в мельчайших культурно-речевых подробностях. Не потерять веры в человека писателю помогли как раз христианские добродетели “несчастных” арестантов. Вооб¬разим (исследователь СТ должен позволить себе это), как счастлив был Достоевский, держатель и читатель Еванге¬лия, которое подарила ему в тобольской этапной тюрьме Н. Д. Фонвизина, услышать и занести в СТ (запись 295) четыре песенно-стихотворных строки (куплет):
Нас не видно за стенами,
Каково мы здесь живем.
Бог, Творец небесный с нами,
Мы и здесь не пропадем.
Глас народа прозвучал для писателя действительно гла¬сом Божьим, гимном христианской надежды: укреплял, ободрял, просветлял. Молитвенная песенка (сродни “жес-токим романсам” и старообрядческим стихам о спасении) как произведение устного творчества евангельски воспи¬танного народа привлекла внимание “сильно-каторжного” писателя, потому что гармонически согласовывалась с его личным христианским “я”-опытом: законченное, душевное и философское, слияние субъекта и объекта 295-й запи-
си, таким образом, налицо. Это иконический феномен СТ. Близкий к другой пронзительной до плача молитвенной (обращенной к “Творцу небесному”) записи под номе-
ром 272: “Господи, как подумаешь, сколько греха-то на лю¬дях!”. Или к записи 483, с плачевым покаянным молитвопо¬добным содержанием: “Дети-то, батюшка, у меня не стоят, наказал Господь!”. И прочая и прочая.
Состав СТ драматургически формировался с таким оче¬видным интуитивным расчетом, чтобы мотив “Творца не¬бесного” не исчезал в потоке и калейдоскопе наблюдений Достоевского за речевым поведением “братьев по несча-
стью”. Там и тут, на каждом шагу, среди полифоничных, пестрых, как сама жизнь, записей встречаются свидетельст¬ва народного христианства (см. записи: 6 (пародирование молитвословия), 14 (космогонические и апокалипсические воззрения Старовера), 22 (народное полукомическое анафе-матствование), 67 (поминание чёрта), 76 (парадоксальная исповедь церковного вора-христианина), 162 (русский культ Пасхи), 190 (раскольничий быт), 223 (старообрядческие за-преты-верования), 234 (“педагогическое” боговоззвание), 284 (чёртово или бесовское “градостроительство”) и др.).
Порою факты народного христианства приобретают -- Достоевский остроумно подметил это в житейском быто¬вом простолюдинном обороте -- вид курьезной богобояз¬ненности и, вследствие того, еще более красноречивый, “кричащий”. Примером такого парадокса (см. аналог в упо¬мянутой записи 76) в обыденной народно-христианской практике может служить избранная автором формула спе¬цифического воровского предостережения: “Не бери лиш¬няго, побойся Вышняго” (запись 455). В религиозно сори-ентированной народной переделке народного же общерус¬ского изречения “Бойся Вышнего, не говори лишнего!” Достоевский усмотрел тот “огонь” “чистой веры”
в православную идею, о которой сочувственно рассуждал впоследствии в “Дневнике писателя” (24, 192). Ему, каторж¬нику-гению, была любопытна и дорога каждая черточка
в арестантском народе, если она, пускай косвенно, указыва¬ла на христианскую прочность и неискаженность человека.
В СТ Достоевский строго различал и соблюдал два гра¬фических подхода к написанию слова “Бог”: с прописной и строчной буквы. В говоре толпы он сумел расслышать, как “несчастные”, в разных ситуациях речевого общения, не¬одинаково произносят это великое миросозидающее слово. Чаще -- богобоязненно, в традициях народной веры (см., на¬пример, запись 234, не говоря уже о 455-й). Гораздо реже -- суетно, как дежурное присловье образной, афористически организованной речи, без преклонения перед лишенным высокого смысла словообразом (см. запись 168: “Тот бог, другой бог, а Маланьин больше!”). Чуть видимая духовная дифференциация словоупотребления -- существенная чер-
та в христианском облике народа каторги, т. е. аргумент
в пользу мнения о неповерхностной евангельской религи¬озности “братьев по несчастью”.
Таких аргументов в СТ более чем достаточно. Сошлюсь еще на один, прежде чем перейти к окончательным выво-
дам о народно-христианском контексте сибирских заметок Достоевского.
Ссоры-перебранки арестантов колоритно выставлены
в целом ряде тетрадных записей. Они имеют особую цен¬ность, поскольку рефлективны, психологически импульсив¬ны, богаты нечаянным, в сердцах сказанным, словом. “Не¬счастные” “вдруг” проговариваются в них о том, о чем при других обстоятельствах, т. е. неспровоцированно, умолчали бы. Такова, к примеру, запись 91, в которой (нотабене: еди¬ножды в СТ) упоминается Христос. Дело не в межконфес¬сиональном происхождении и межэтническом характере арестантской ссоры-перебранки. Все это лежит на поверх¬ности и для целей настоящей работы не имеет серьезного значения. В отличие от беглой разговорно-бранной ссылки (говорит некий имярек) на драматическое событие из еван¬гельской истории: “Христа продал”. В этом пункте “Тетра¬ди” христианские отражения (здесь точнее бы сказать, от¬ражения иудео-христианской культуры) получают такую психоидеологическую нагрузку, которая нуждается в осо¬бом комментарии. Из поэтики прямого личного высказыва¬ния имярека-ругателя: “Христа продал” -- явствует как ми¬нимум следующее. Инвариантная, первородная библейская история о том, как Иуда Искариотский предал (“продал”) Спасителя Иисуса Христа за тридцать сребренников, околь¬ными житейскими путями обращена в пошлую брань. Тем не менее бранное слово имярека подспудно вобрало в себя культурно-историческую память-опыт православно-хрис-тианской веры. Бранчливый арестант своей импульсивной репликой-пошлостью показал, как генетически прочно (хо¬тя и не всегда в благовидных формах) укоренилась в на¬родном сознании (по “Дневнику писателя”: “в <…> сердце искони” -- 21, 38) евангельская идея о вероломно предан¬ном-“проданном” Христе и трагических последствиях этого предательства.
Христианские контексты и подтексты СТ многочисленны и разнолики. Их наличием и смысловым составом доказы¬вается: протагонист “Моей тетрадки каторжной” не только исповедует христианство, но и является его исконным сти-хийным предстоятелем.
“Сибирская тетрадь” -- как подлинный литературный и выстраданный личностный документ из эпохи пребывания Достоевского в “Мертвом Доме” -- не отделена культурно-идеологическими перегородками от его остального творче¬ства. Напротив: христианская психологическая “подкладка” острожных заметок более всего и роднит СТ с романами и публицистикой писателя.
Автор СТ, “брат” и друг арестантского народа, героичес¬ки выполнил свой христианский писательский и свидетель¬ский долг перед ним. И конечно -- перед русским “демосом” в целом.