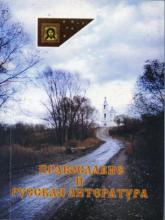С мемуарными опытами Хализева уже можно было познакомиться. В том числе, на нашем портале (см.: http://russian-literature.com/ru/research/ve-halizev-otechestvennoe-lite... ). Хотя сам автор в свойственной ему шутливой манере настаивает на неизбежности «ошибок памяти» и невозможности для такого жанра «стопроцентной достоверности», однако рассматриваемая книга вполне может быть понята как своего рода история советской вузовской интеллигенции в лицах, начиная с конца сороковых годов прошлого века.
Мы можем прочесть совершенно нетривиальные вещи об атмосфере «факультетской повседневности» МГУ еще позднесталинской (послевоенной) эпохи, об «оттепели» шестидесятых (первая часть книги). В следующей части Валентин Евгеньевич рассуждает о своих однокурсниках (и известных – таких, как Н.П. Розин, М. Щеглов, Ш. Маркиш, и известных гораздо меньше Е. Червинскене (Гашкене), И. Михайловой и других). В третьей части речь идет об учителях – Н.И. Либане, Г.Н. Поспелове, С.М. Бонди, Э.В. Померанцевой, В.Д. Дувакине). В четвертой части Хализев рассуждает о «заочных учителях»; тех, кто оказал на его труды (и не только труды) значительное воздействие: это М.М. Бахтин, А.П. Скафтымов, А.А. Золотарев. Наконец, в последней части представлены портреты таких филологов, как В.В. Кусков, В.Я. Лакшин, В.Н. Турбин, Е.М. Пульхритудова, С.И. Великовский, А.В. Михайлов, В.А. Грехнев.
Сразу должен сказать, что я всецело приветствую издание этой книги. Не только потому что в аннотации сказано – «рыцари филологии запечатлены в иллюстрациях к этой книге» - но там присутствуют также и прекрасные дамы, и даже автор этих строк. ☺ Не только потому что на фоне всем известной «партийности» нашего цеха В.Е. Хализев отличается широтой приятия (иными словами, он по-настоящему свободный человек http://jesaulov.narod.ru/Code/articles_svogobdnyj_chelovek_k_80_letiju_h... ). Наконец, не только потому что редко кто из ныне пишущих литераторов отважится поставить в один значимый ряд Бахтина, Скафтымова и до сих пор мало кому известного Золотарева. Но и оттого следует похвалить «Прогресс-Плеяду» (и ее главреда С.С. Лесневского), что мы до сих пор плохо знаем повседневную подсоветскую академическую жизнь даже МГУ. Точнее, так: мы слышим либо безудержные славословия (особенно в устной банкетной форме), либо же встречаемся с полным неприятием и того времени (особенно это касается как раз конца сороковых – начала пятидесятых годов), и его видных представителей (вроде того же Поспелова). С этой точки зрения «воспоминания и портреты» такого принципиального негруппового человека, как Хализев, имеют особую ценность, подкупая бесспорной неангажированностью. Имея ту самую глубинную «вненаправленческую» интенцию, которую так любит Валентин Евгеньевич.
Я прочел эту книгу на одном дыхании. Скажу сразу, для меня малопонятны некоторые фигуры умолчания автора (лишь бы как-нибудь не обидеть семейного окружения описанных им героев). Мне-то представляется, что «обидеть» кого-то Валентин Евгеньевич не может просто органически, даже если очень захочет. Разумеется, я был знаком лично лишь с некоторыми из персонажей, для меня рассказ о них - просто нарратив об историческом времени, когда неизвестно что важнее – сами герои или особенности видения нарратора.
Не успев родиться к сталинскому времени, я могу либо довериться описанию Хализева, либо трактовать его как выражение некоторых личных особенностей автора (или коллективного бессознательного его круга). Однако же в любом случае никак не могу рассматривать «сталинизм» послевоенного времени как некую точку отчета для оценки. Скажем, гонения на «космополитов» в университетской среде, характерные именно для этого времени (об этом, конечно, пишет В.Е.), для меня как-то сами собой ставятся в исторический контекст предшествующего изничтожения русской (национально мыслящей) профессуры всей мощью большевицкого государства. И символизируют советскую несвободу как таковую, с ее меньшим или большим градусом государственно организованного насилия. «Враги» были разные, но суть насилия – одна. Мне не очень близки позиции тех, для которых послевоенный «ужас» явился единственной точкой отчета для оценки советского периода. Значит, до 1948 года они жили вполне благополучно? Но в таком случае это значит только то, что они были явно с гонителями, вот и все. Никакого уважения и сочувствия у меня не вызывают ни западные левые «интеллектуалы», любители советского «эксперимента», в упор «не видевшие» истребления казачества, духовенства или крестьянства – вплоть до того, как приступили в 1937 году к «креативному классу» творцов Революции (тут западные советские друзья засуетились и озаботились), ни здешние слепые и глухие к чужим страданиям (пока дело не дошло до них самих) энтузиасты советского культурного «строительства».
Восторги западных левых интеллектуалов советским «экспериментом», покончившим с Российским государством, можно проверить скупой констатацией В.Е. состояния гуманитарных дисциплин и уровнем «лучшего» советского вуза: «Невежество подавляющего большинства однокурсников (имею в виду и себя) было поистине чудовищным. Философское образование редуцировалось до четвертой главы ”Краткого курса истории ВКП (б) ” и работы Ленина ”Материализм и эмпериокритицизм”; история русской общественной мысли – до того, что было сказано Белинским и Герценом, Чернышевским и Добролюбовым; литература ХХ века – до Горького, Маяковского и других ”соцреалистов”». Повседневность студента советского вуза тех лет: от обязательных, перед лекциями, утренних «политинформаций» до агитации и пропаганды «в предвыборные кампании» (последнее как будто вернулось в жизнь РФии). Когда В.Е. пишет «Юра Манн, член факультетского бюро, водил меня инструктироваться в какую-то высшую инстанцию, чуть ли не в райком комсомола», то о подобном «инструктаже» мы можем услышать и сегодня. Мне, учившемуся в конце 70-х – начале 80-х, для того, чтобы ускользнуть от подобной «идейно-воспитательной» работы, пришлось заняться организацией студенческой науки – это считалось также «поручением», но относительно безобидным.
В описании факультетской повседневности имеются любопытные штрихи. Вот Игорь Виноградов, будущий редактор «Континента», а тогда секретарь бюро комитета ВЛКСМ, инициирует выговор Хализеву по «комсомольской» линии, вот Сергей Бочаров рекомендует Хализева на руководящую комсомольскую работу… Любопытны и способы защиты. Вот нечто вольное (Белинский не является вполне революционным демократом) позволяет себе тот же Виноградов. Преподаватель после занятий спрашивает комсорга Хализева о том «КТО ТАКОЙ Виноградов?». «Я сказал о руководящей комсомольской деятельности Игоря и о том, что его отец работает в ЦК. На том разговор сразу же кончается».
Из «портретов» университетских учителей В.Е. мне наиболее интересными показался очерк о Н.И. Либане, своего рода Сократе филологического факультета, и о Г.Н. Поспелове (самое объективное, что мне пока довелось прочесть о главном советском «официальном» теоретике литературы). Однако, может быть, более важное значение для понимания атмосферы уже шестидесятых годов имеет очерк, посвященный В.Д. Дувакину и истории его изгнания с филологического факультета.
Интересно, что если довести до некого логического предела установку В.Е., то выходит, что ему более симпатичны не столько собственно филологические результаты («достижения»), сколько человеческая компонента, не тексты, а личности. В формулировке В.Е. это звучит так: «мы знаем, то, каким был человек, не менее важно, чем то, что он сделал». Он фиксирует разного рода «мелочи», словосочетания, острые фразы (и даже обрывки фраз) таким образом, что они как-то иной раз почти перевешивают те научные принципы, которые и ввел в филологию тот или иной ученый. Например, Поспелов, убежденный в том, «что он сполна владеет истиной», напоминает В.Е. поспеловского деда, «костромского соборного протоиерея И.Г. Поспелова, известного церковного писателя». Может быть, так оно и есть, судить трудно. Но при этом как-то невольно уходит в тень, что принципы, которые отстаивал дед, и идеи, высказываемые внуком (железобетонным марксистом), не просто различны, но имеют противоположную духовную доминанту.
На фоне несколько холодноватого отношения к Бахтину (В.Е. рассказывает о переходе от апологетики («слепого доверия») к «более трезвой и взвешенной» оценке) как раз апологетичным выглядит очерк о Скафтымове (нет ни единого критического суждения). Но что представляется В.Е. наиболее привлекательным? «На протяжении тридцати пяти лет своей деятельности ученый неустанно, без колебаний, не отдавая ни малейшей дани сменявшим друг друга веяниям и модам, греб “против течения”. Вернее сказать, против течений: они были разными». Все бы ничего, но человек моего поколения, боюсь, никогда не поймет продолжения этой похвалы в следующем же предложении: «И притом старался, чтобы его “лодка“ была не очень замечаемой». Незаметность – достоинство? Более-менее ясно, что хочет сказать В.Е. Но все-таки логика позитивной констатации и последующего сожаления, по-видимому, выражают какое-то не высказываемое, к сожалению, более определенно в книге заветное убеждение самого В.Е.: «Сознательный, принципиальный уход если не в безвестность, то, во всяком случае, в незаметность… Грустно сознавать, что ученый, чье наследие актуально в самом глубоком смысле этого слова, остается и ныне оттесненным на периферию отечественной науки, что он не в числе литературоведов, имеющих широкую известность». Я решительно в данном случае не понимаю, почему «грустно»? Если Скафтымов сам стремился к подобной позиции, если она была желаемой для него самого, если это был его не только филологический, но и жизненный выбор («сознательный, принципиальный»)?
Характеризуя особенности скафтымовской методологии, В.Е. замечает; «в толковании художественных произведений – решительно нет ничего от себя самого. Для меня такая методологическая установка – своего рода ориентир. Недостижимый образец». Мне же такая установка представляется иллюзией, странным образом напоминающей поспеловский «объективизм». Вряд ли этот «образец» достижим в филологии, глубокие сомнения вызывает у меня плодотворность подобного «ориентира», как и то, что и сам Скафтымов его «достиг», несмотря на собственную декларацию: «все по-разному, но все одинаково безответственно “свое“ навязывают автору. Я нигде не позволял себе никаких измышлений». Где же здесь те оговорки, отсутствие которых В.Е. ставит в вину Поспелову: «я думаю», «мне кажется», «на мой взгляд»? Признаюсь, что установки Бахтина и Аверинцева (В.Е. их приводит как контрастирующий фон для понимания позиции Скафтымова) мне более созвучны и, главное, они более адекватно выражают суть литературоведческой интерпретации. Сомневаюсь, чтобы кто-либо из филологов посчитал, что его труды намеренно «субъективны» - в том смысле, что он сознательно что-либо «свое» навязывает автору. Согласится ли, к примеру, сам В.Е. с тем, что все, что он находит в пушкинских «Повестей Белкина» (в его известной работе), на самом-то деле «у Пушкина нет и в помине» (я привел цитируемое В.Е. мнение Поспелова)?
Надеюсь, В.Е. на меня не обидится, что я отмечу и совсем смешные вещи. Забавным образом В.Е. сравнивает себя с русским крестьянином. «В 1948 году я поступил на отделение русского языка и литературы филологического факультета МГУ… Далее – аспирантура, после которой преподавательская работа на факультете, с 1961 года и по сей день… Однообразие, как видно, предельное. Или скажем иначе: я оседл, как большинство русских крестьян в ХIХ веке и в более давние времена. Изменилось за истекшие 60 лет только местопребывание факультета». Невольно вспоминается, что и Хайдеггер тоже считал, что его философствование и труд крестьянина – тот же самый. Однако даже ему не казалась профессорская должность аналогом крестьянской «оседлости». Здесь многое можно написать, но не буду…
Далее как раз речь идет о МГУ как «эпицентре официальной идеологии с ее агрессивностью». Поэтому возникает вопрос: пребывание в ТАКИХ стенах можно ли уподобить (даже слегка шуточно) крестьянской оседлости «в ХIХ веке и в более давние времена»? Если речь идет о «суровом, строжайшем контроле партийно-государственных властей», может быть, перед нами академический аналог своего рода советской резервации – колхоза? Ведь в колхозе тоже была «оседлость» своего рода. Та еще «оседлость» насильно загнанного в резервации большинства.
Нет, все-таки, как ни крути, В.Е. описывает жизнь привилегированной во многих отношениях достаточно узкой прослойки столичной советской профессуры и ее окружения, а отнюдь не туземных подневольных колхозников, которым-то и деваться было решительно некуда (даже внутренние паспорта стали выдавать лишь в конце 50-начале 60-х годов). Может быть, цитируемый им С.И. Великовский и резковато отозвался о фрондирующей молодежи МГУ – Зорине, Строеве, Мильчиной, Зенкине, Немзере – «все они дети московских богачей», однако совершенно ясно, что «общая советская жизнь» была искусственным конструктом, порождением пропагандистской машины СССР. И честно описываемый В.Е. патриотический сталинский энтузиазм мгушного студенчества и последующее хрущевско-брежневское фрондирование, думаю, в равной мере неприложимы к «жизни большинства», никогда не испытывавшего угара государственного советского патриотизма (как и последующего «разочарования»).
Вот В.Е. воскрешает чрезвычайно интересные детали повседневности своих современников-филологов (для меня особую ценность имеют очерки о Лакшине, Турбине, А.В. Михайлове и В.А. Грехневе). Разумеется, речь идет о разных ступенях и вариациях противостояния советскому «официозу» (сам В.Е. употребляет также понятие «ортодоксальный», «ортодоксальность», которое мне представляется еще более туманным и неопределенным, чем безбрежно размытое понятие «тоталитаризм»). Но насколько свободной была жизнь и творчество даже названных выше лиц? С одной стороны, и Поспелов (а еще раньше Ермилов) под пером В.Е. отнюдь не является символом этого самого «официоза». С другой стороны, В.Е. обоснованно упрекает в неточности апологетов «Нового мира» времен Твардовского и Лакшина, которые, идеализируя «шестидесятников», пишут об «открытом противостоянии системе государственного тоталитаризма», находя в самом Лакшине некоторые вождистские замашки («уже став великим»).
В мемуарной книге Хализева не декларируется, а показывается, что можно оставаться ученым и человеком в самые человеконенавистнические времена и в самом неблагоприятном социуме. Наверное, так оно и есть. Но как относиться к этому? В СССР жили и работали не сплошь монстры и людоеды (даже в гуманитарной, т.е. в идеологической по определению среде). Но, скажем, и в нацистской Германии, где, с отличие от советского социума, оставалось значительно больше культурных ниш, не пораженных тотально идеологической проказой, ТОЖЕ достойно жили и успешно работали вполне нормальные люди. Было бы крайне интересно сопоставить не только механизмы функционирования советского и нацистского подавления личности (подобный анализ проводился уже не раз), но и советско-нацистскую повседневность, а также опыты противостояния государству. Мне представляется, подобный контекст понимания может дать гораздо больше, чем поиски мнимой «непрерывности» русской истории (скажем, в нацистской Германии существовало множество законов, принятых ранее; в советском государстве отменены были ВСЕ законы Российской Империи).
Так или иначе, у рассматриваемой книги есть один существеннейший недостаток, о котором хотелось бы сказать напоследок. Ее тираж составляет 200 экземпляров. Иными словами, она почти не существует. Еще и поэтому мне захотелось рассказать о ней более широкому кругу интернет-читателей.
(Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 11-04-12014 в)
- Log in to post comments