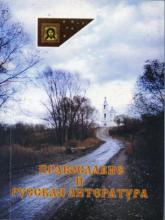И.А. Есаулов
Несмотря на усиление исследовательского внимания к религиозному подтексту русской художественной литературы, как раз проблемы поэтики этой литературы чаще всего рассматриваются вне целостного сопоставления со структурными особенностями православного менталитета и ортодоксального литургического цикла.
Иногда книга М. М. Бахтина о Достоевском рассматривается как едва ли не образцовый труд, посвященный собственно поэтике писателя. Однако известно, что в позднейшем монологе, записанном С. Г. Бочаровым, М. М. Бахтин сам указал на основной недостаток собственной книги - отрыв им поэтики писателя от религиозных проблем[1]. Изучая бахтинскую концепцию романного мира Достоевского, невозможно уже ни игнорировать этого вынужденного умолчания, ни - тем более - пытаться превращать недостаток бахтинской работы в ее достоинство. Однако и до сих пор православная религиозность Достоевского в трудах, посвященных изучению его поэтики, учитывается, как правило, далеко не в полном объеме. Хотя в последнее время уже появляются работы, специально посвященные этой проблеме[2].
По-видимому, некоторые важнейшие проблемы собственно поэтики писателя можно интерпретировать особенностями структуры православной литургии. Между православным типом культуры и художественным языком существует тесная связь, которую нельзя абсолютизировать, но нельзя и недооценивать. Многие черты поэтики Достоевского обусловлены фундаментальными особенностями русского православного видения мира: ценностной иерархией Закона и Благодати, соборным типом мышления, литургическим акцентом не на Рождество Христово, но на Воскресение и т. п. Однако констатация и научное описание этих черт художественного мира писателя возможны только при особом исследовательском подходе к тексту и подтексту произведений Достоевского.
М. М. Бахтин подчеркивал, что “каждое слово (каждый знак) текста выводит его за его пределы. Всякое понимание есть соотнесение данного текста с другими текстами”[3]. Однако это соотнесение, как и само понимание, могут основываться на весьма различных принципах. Цитируемый нами ученый выделял разные “контексты понимания”: близкий и далекий. Поэтому для понимания любого художественного текста недостаточно лишь “соотнесения” его с другими текстами. В зависимости от выбора исследователем типа контекста само понимание всякого конкретного текста может быть принципиально различным.
Проблема филологического понимания не решается ни заклинательными апелляциями к целостности своего предмета (художественного произведения), ни признанием роли контекста, ни даже указанием на решающее значение границ между текстом и контекстом. Необходима исследовательская рефлексия по поводу того или иного “соотнесения”, актуализирующая тот или иной контексты понимания.
Любое “прочтение” художественного текста исследователем может рассматриваться не только как изучение “безгласой вещи” в пределах той или иной абстрактно-научной системы, а как более или менее удачное погружение толкователя в могучие глубинные течения культуры, которое высвечивает шлейфы смыслов, не сводимые к индивидуальной, либо же “общенаучной” данности, но позволяющие расслышать и распознать в подтексте подспудно звучащий язык культурного “предания” - с его собственной системой ценностных координат.
На наш взгляд, в глобальной философской перспективе рассматриваемую проблему четко обозначил М. Хайдеггер в “Бытии и времени”, открыв предструктуры понимания. Детально эту герменевтическую задачу описывает и по-своему решает Х.-Г. Гадамер. Рассматривая феноменологическое описание в “Бытии и времени” проблемы понимания, Гадамер подчеркивает: “Понимание, осуществляемое с методологической осознанностью, должно стремиться к тому, чтобы не просто развертывать свои антиципации, но делать их осознанными, дабы иметь возможность их контролировать и тем самым добиваться правильного понимания, исходя из самих фактов. <…> Речь, следовательно, идет совсем не о том, чтобы оградить себя от исторического предания, обращающегося к нам в тексте и через текст, а напротив: оградить себя от того, что может помешать нам понять это предание с точки зрения самого дела. Господство нераспознанных нами предрассудков - вот что делает нас глухими к тому, что обращается к нам через историческое предание"[4]. Таким образом, рефлексия по поводу собственных “предрассудков”, способных помешать пониманию “исторического предания” (традиции), проявляющегося в изучаемом тексте, является совершенно необходимым моментом всякого понимания. Однако обратим внимание на то, что речь идет о “нераспознанных” собственных “предрассудках”, чуждых тому “преданию”, которое родственно рассматриваемому тексту.
Что же касается иных “предрассудков”, укорененных в предании (традиции, которой наследует изучаемый текст), то автор “Истины и метода” предлагает отказаться от победившего в эпоху Просвещения негативного отношения к “предрассудку” как таковому - в качестве составной части исторического предания. “Лишь… признание существенной предрассудочности всякого понимания, - формулирует Гадамер, - сообщает герменевтической проблеме действительную остроту <…> Само по себе слово “предрассудок” (Vorurteil) означает пред-суждение, то есть суждение (Urteil), вынесенное до окончательной проверки всех фактически определяющих моментов <…> “Предрассудок”… вовсе не означает неверного суждения; в его понятии заложена возможность как позитивной, так и негативной оценки”[5].
Очень важно для дальнейшего направления европейского знания, что “дискредитация предрассудка” Просвещением одновременно является и дискредитацией до тех пор глубоко укорененного в европейской культурной традиции христианского Предания: “просвещенческая критика направлена прежде всего против христианского религиозного предания, следовательно, против Священного Писания…”[6].
Гадамер ставит острый вопрос: “Неужели действительно пребывать внутри традиции, исторического предания означает в первую очередь быть жертвой предрассудков и быть
ограниченным в своей свободе?” С его точки зрения, “в действительности, не история принадлежит нам, а мы принадлежим истории <…> Самосознание индивида есть лишь вспышка в замкнутой цепи исторической жизни"[7]. Необходимо увидеть в “предрассудках” традиции не препятствие адекватному объяснению рассматриваемого предмета, а одно из важнейших условий понимания вообще.
Отдельная глава исследования Гадамера так и озаглавлена “Предрассудки как условия понимания”. В ней ученый требует “реабилитации авторитета и традиции”, освобождения от доминирующего поныне “просвещенческого экстремизма”. Авторитет может быть не только источником заблуждений, но и источником истины, особенно та форма авторитета, которой является традиция. “То, что освящено преданием и обычаем, обладает безымянным авторитетом, и все наше историческое конечное бытие определяется постоянным господством унаследованного от предков - а не только понятого на разумных основаниях - над нашими поступками и делами <…> Нравы и этические установления существуют в значительной степени благодаря обычаям и преданию. Они перенимаются в свободном акте, но отнюдь не создаются и не обосновываются в своей значимости свободным разумением. Скорее именно основание их значимости мы и называем традицией"[8]. Согласно этой позиции, абсолютной противоположности между традицией и личной свободой, личной ответственностью не существует.
Традиция, таким образом, не досадный источник заблуждений, сковывающих свободную мысль человека, но “имеет право на существование и в значительной степени определяет наши установки и поступки <…> всегда является точкой пересечения свободы и истории как таковых”[9]. Гадамер в итоге приходит к выводу, что следует “принципиальнейшим образом восстановить в герменевтике момент традиции… При всех обстоятельствах основным моментом нашего отношения к прошлому <…> является вовсе не дистанцирование от исторически переданного и не свобода от него. Скорее мы всегда находимся внутри предания (выделено нами. - И. Е.), и это пребывание-внутри не есть опредмечивающее отношение, когда то, что говорит предание, воспринимается как нечто иное и чуждое, но, напротив, оно всегда и сразу является для нас чем-то своим, примером или предостережением, само-
узнаванием, в котором для наших последующих исторических суждений важно не столько познание, сколько непредвзятое слияние с преданием (выделено нами. - И. Е.)”[10].
Вполне присоединяясь к этой традиционалистской научной установке Гадамера, мы бы только хотели обратить внимание на то, что “предание” может быть тем или иным, созвучным собственному типу культуры исследователя, либо, наоборот, вполне чуждым ему. В последнем случае вряд ли возможно “самоузнавание”, а тем более “слияние” с преданием. Если субъект познания находится “внутри” иного познаваемому объекту “предания” (иной традиции), то он, как правило, не может предлагаемое ученым “пребывание-внутри” воспринимать иначе как именно “опредмечивающее” его личностность. Отсюда понятны прямо противоположные требования дистанцирования “от исторически переданного” и требования индивидуальной “свободы” познающего от авторитета предания: зачастую за ними можно заметить не всегда рефлексируемое исследователем столкновение родной ему “традиции” (со свойственными ей “предрассудками”, “нравами” и “этическими установками") с тем “преданием”, которое является стихией существования изучаемого исследователем гуманитарного объекта. Таким образом, декларируемая свобода от чужих собственному типу культуры “предрассудков” (которые могут быть не “авторитетны” для данной культурной системы) действительно не гарантирует свободы от предрассудков вообще: традиция и в этом случае “в значительной степени определяет” установки субъекта понимания, хотя это уже иная (можно сказать, авторитетная для него, то есть не “опредмечивающая” его) традиция - с ее собственным, уко-
рененным в истории “преданием” - именно с таким, с которым в данном случае оказывается возможным “непредвзятое слияние”.
Так или иначе, “беспредпосылочная наука” (наука, свободная от культурных контекстов понимания) в гуманитарной сфере немыслима: “чистое восприятие есть абстракция <…> Понять нечто можно лишь благодаря заранее имеющимся относительно него предположениям (“предположения” же могут быть те или иные. - И. Е.), а не когда оно предстоит нам как что-то абсолютно загадочное”[11]. Поэтому, по мнению Гадамера, “в начале всякой исторической герменевтики должно стоять… снятие абстрактной противоположности между традицией и исторической наукой, между историей и знанием о ней (выделено автором. - И. Е.) <…> Следует… признать в нашем отношении к истории момент традиции и поставить вопрос о его плодотворности для герменевтики"[12]. Современное исследование, с этой точки зрения, является не только собственно “исследованием” тех или иных фактов как объектов изучения, но и опосредованием предания, “к которому мы причастны"[13]. Как нам представляется, актуализация “предания” как необходимого контекста понимания в гуманитарных науках невозможна без исследовательской рефлексии по поводу типа культурной традиции - с авторитетной для этой традиции архетипической системой ценностей.
При изучении русской литературы наибольшие проблемы вызывает обычно определение того типа культуры, к которому можно отнести эту литературу. Между тем определить тип культуры означает в данном случае для литературоведа осознать глубинный контекст понимания предмета своего исследования. Совершенно недостаточно ограничиться только лишь констатацией национальной идентификации (русская литература является частью русской культуры), хотя такая констатация и может представляться самоочевидной и даже самодостаточной. Однако чаще всего те особенности русской литературы, которые относили к разряду “национального своеобразия”, имеют другое объяснение. Они вытекают из своеобразия православного образа мира. Мы солидарны с теми исследователями, которые склонны полагать, что православный тип духовности и сформировал многие черты русского национального своеобразия, определил доминанту русской культуры.
Нам уже приходилось высказывать идею “третьего пути” в изучении литературы, который дистанцируется и от псевдогенетических обобщений “малого времени” авторской современности и от константов мифопоэтических схем. У русской литературы имеется далекий контекст понимания, определяемый пасхальным архетипом православной соборной культуры[14]. Именно здесь, на наш взгляд, отечественная словесность оказывается у себя дома. Используя фразеологию М. М. Бахтина, можно сказать, что “великие произведения литературы” - как раз те, которые “подготовляются веками”, именно потому “живут в веках”, что “уходят своими корнями в далекое прошлое”, то есть несут в своих смысловых глубинах архетипы своих культур, позволяющие преодолеть смертные объятия “малого времени”. Каждое из такого рода произведений имеет “в скрытом виде” принципиально сопротивляющиеся овнешнению ресурсы родного ему типа культуры -
и потому способно выйти в открытые просторы “большого времени”.
Литургический вариант Священного Писания в русской традиции изначально доминирует. Освоение Ветхого и Нового Завета для русского православного человека совершалось не только посредством индивидуального чтения духовных произведений, но и личным участием в православном соборном богослужении, которое и сформировало особую поведенческую структуру, особый православный менталитет. Поэтому наиболее плодотворным в научном изучении русской лите-
ратуры является, на наш взгляд, не искусственное противо-
поставление “народного” православия православию “догматическому”, за которым мерцает старая и ложная оппозиция “церковное/народное”, но описание “общего знаменателя”, конституирующего единство русской культуры. Только после этого описания корректно выделять различные ветви общего инварианта.
Распространенные представления о “двоеверии” в русском национальном сознании, аргументируемые ссылками на дореволюционные фольклорные записи, как будто подтверждающие массовые “отклонения” от ортодоксальной православной веры, в наше время как раз должны быть поставлены в новый контекст понимания.
Не стоит забывать, что фольклористы, обратившиеся к устному народному творчеству в XIX веке и жившие, в отличие от нас, еще в православной стране, совершенно естественно замечали, подчеркивали и фиксировали в первую очередь как раз те явления, которые резко отличаются от привычного им (иначе говоря, именно христианского) общекультурного фона. Сам же этот “фон” как раз потому мог на рациональном уровне и не осознаваться ими как нравственная и эстетическая система координат, что он представлял собой саму стихию существования русского национального сознания и самой России.
Совершенно особенное празднование Пасхи, Воскресения Господня, как известно, является характернейшей особенностью ортодоксальной литургии. Эту особенность отмечали многие писатели и наблюдатели. Можно привести хотя бы высказывание Н. С. Трубецкого: “на Востоке Воскресение акцентировалось гораздо сильнее и живее, нежели на Западе, где основное внимание уделялось Страстям Христовым… Значимо, что главным праздником восточных христиан была Пасха, праздник Воскресения. В России это акцентирование Пасхи развилось с особой силой… праздник Пасхи всегда
оставался главным праздником в народной жизни”[15]. Позволительно высказать гипотезу о наличии особого пасхального архетипа и его особой значимости для русской культуры.
В дальнейшем изложении мы хотели бы сосредоточиться на анализе проявления пасхального архетипа в романе “Преступление и наказание” - и даже в основном на анализе фрагмента романа. Представляется, что такого рода рассмотрение может быть продуктивным, если фрагмент толковать как своего рода “молекулу” романного мира (как это продемонстрировал Э. Ауэрбах в классическом труде “Мимесис”). Знаменитый эпизод со чтением Соней Евангелия Раскольникову происходит почти в самом центре романа: в четвертой главе четвертой части. Соня читает четвертое Евангелие (от Иоанна). В самом тексте автором выделено слово “четыре”, говорящее о четырех днях, проведенных Лазарем во гробе, что, как уже неоднократно отмечалось, сопоставлено с четырьмя днями Раскольникова после совершенного им убийства. Хотя замечено, что этот счет не совсем точен, но чрезвычайно значима сама читательская иллюзия, вероятно, сформированная внутренним миром романа.
Соня “энергично ударила” (сделала словесное ударение) на слове “четыре”. Тем самым данный эпизод выделяется тем, что речь героев, евангельский текст и авторская композиционная организация романа сходятся в некоей соборной высшей словесной точке (вершине), где повествуется о евангельском чуде - воскресении умершего Лазаря. Поэтому корректно рассматривать этот эпизод как своего рода романную “формулу” Достоевского.
Поставим вопрос о романном контексте, в котором повествователь характеризует событие воскресения Лазаря как “величайшее и неслыханное чудо”. “Она (Соня. - И. Е.) приближалась к слову о величайшем и неслыханном чуде, и чувство великого торжества охватило ее”. Сама возможность чуда воскресения отнюдь не подвергается скептическому сомнению.
Следует подчеркнуть, что в духовном подтексте, имманентном русской словесности, для того, чтобы воскреснуть, неизбежно необходимы страдания и - в пределе - полная, понятая отнюдь не метафорически гибель: Воскресения без смерти, увы, не бывает.
Воскресение - это совсем не второе Рождение, не возрождение заново. Это, напротив, спасение - как переход в иное (духовное) измерение, в иное качество.
“Убийца” и “блудница” в духовной перспективе уже являются мертвыми душами. Однако инвариант смерти проникает также и в смысловые глубины собственно поэтики Достоевского. В главе, предшествующей евангельскому чтению, этот инвариант, неявно связанный со смертью Лазаря, проявляется смертными атрибутами, сопровождающими всех героев: Раскольников говорит родным: “…вы точно погребаете меня”; Пульхерия Александровна изображается “помертвевшей”; Разумихин “побледнел как мертвец”. По словам Раскольникова, “Катерина Ивановна в чахотке, в злой; она скоро умрет”. У самой Сони до чтения о воскресении “пальцы, как у мертвой”. “Я и всегда такая была” - замечает героиня.
Однако Воскресения не бывает не только без смерти, но и без твердой веры в реальную возможность этого чуда.
Тогда как до евангельского чтения именно вера в возможность чуда и отрицается Раскольниковым: “Да, может, и Бога-то совсем нет, - с каким-то даже злорадством ответил Раскольников, засмеялся и посмотрел на нее”. Само слово “чудо” возникает в “немых” монологах героя. Но характерно, что вера в чудо спасения для Сони понимается Раскольниковым как признак помешательства, то есть наделяется ярко выраженными отрицательными коннотациями. Рассматривая три варианта судьбы Сони (самоубийство, сумасшествие и разврат), герой останавливается именно на помешательстве как аналоге веры в чудесное спасение. “Но кто же сказал, что она не сошла уже с ума? Разве она в здравом рассудке? Разве так можно говорить, как она? Разве в здравом рассудке так можно рассуждать, как она? <…> Что она, уж не чуда ли ждет?
И наверно так. Разве все это не признаки помешательства?”
Текст построен таким образом, что сразу же после этих мыслей героя следует его вопрос: “Так ты очень молишься Богу-то, Соня?” После утвердительного ответа (“Что ж бы я без Бога-то была?”) Раскольников укрепляется в своей догадке о действительном сумасшествии героини («“Ну, так и есть” - подумал он…»; “Так и есть! так и есть! - повторял он настойчиво про себя”; «“Вот и исход! Вот и объяснение исхода” - решил он про себя, с жадным любопытством рассматривая ее»). Таким образом, согласно рациональной, рассудочной установке упование на Божью волю и молитва Богу являются вариантом помешательства.
Очень существенно, что в этой же части текста имеется определение Раскольниковым Сони как юродивой («“Юродивая! юродивая!” - твердил он про себя»), однако это предполагаемое юродство героини также рассматривается в чисто позитивистском смысле - как деривантное, недолжное поведение.
Таким образом, можно сделать вывод, что знаменитая фраза “Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился” находится во вполне определенном, так сказать, в гуманистическом контексте, исключающем действительную веру в возможность чудесного пасхального воскресения. Но для Достоевского Воскресения, как уже было сказано, не бывает без твердой веры в это состоявшееся чудо.
Анализируя этот эпизод, следует иметь в виду, что не только он композиционно располагается в центре романа, но и само евангельское описание воскресения Лазаря занимает центральное положение в Евангелии от Иоанна, будучи расположено в 11-й главе. Тем самым структура романа отчасти уже повторяет структуру евангельского инварианта.
Почему уже после чтения Соней Евангелия Раскольников отнюдь не “воскресает” к новой жизни (подобно Лазарю), но возвращается к мысли о власти “над всей дрожащею тварью и над всем муравейником” как своей “цели”? (“Свобода и власть, а главное власть! <…> Вот цель! Помни это. Это тебе мое напутствие”). На православной литургии воскресение Лазаря воспоминается во время Великого Поста (на его пятой неделе). Испытания героя - как раз в соответствии с литургическим циклом - еще далеко не закончены, его “наказание” растягивается вплоть до финала. Однако одновременно этот “путь” героя становится, начиная с рассматриваемого эпизода, уже своего рода паломничеством к Пасхе, к “новой жизни”, что укореняет Раскольникова в определенной духовной традиции, имманентной русской словесности. В самом векторе пути и проявляется пасхальный архетип поэтики романа - как в “Братьях Карамазовых” тот же архетип можно усмотреть в пасхальном веселии и ликовании, сюжетно следующими за смертью старца Зосимы и мальчика Илюши.
Испытания не закончены и для Сони. Очень часто при анализе этого романа упускается из виду, что сама Соня до евангельского чтения также характеризует Раскольникова именно как сумасшедшего: “Соня в ужасе от него отшатнулась, как от сумасшедшего. И действительно, он смотрел, как совсем сумасшедший”. После чтения вновь возникает похожее определение: «“Как полоумный!” - подумала в свою очередь Соня»; “Она смотрела на него как на помешанного”.
Таким образом, автором как бы намеренно демонстрируется по крайней мере два полярных контекста понимания веры в чудо воскресения, о котором говорит евангельский текст:
1) как некое недолжное утопическое упование, вариант помешательства, психический аффект, от которого надлежит рационально освободиться; 2) как единственная возможность для Раскольникова и Сони преодолеть собственные прегрешения. В первом случае предполагается внешнее воздействие на действительность, во втором - внутреннее прозрение.
Однако далеко не случайно, что сама возможность этого прозрения наступает в результате не индивидуального чтения Евангелия, но именно совместного чтения. Не только Раскольников “вдруг” настаивает на этом чтении о “величайшем и неслыханном чуде” («Он перенес книгу к свече и стал перелистывать. “Где тут про Лазаря?” - спросил он вдруг»; “Найди и прочти мне”; “Читай! Я так хочу!”), но и Соне “мучительно самой хотелось прочесть, несмотря на всю тоску и на все опасения, и именно ему (выделено автором. - И. Е.), чтоб он слышал… Он прочел это в ее глазах, понял из ее восторженного волнения…” Для Сони читать Раскольникову знакомый ей наизусть эпизод (“Строчки мешались перед ней, потому что в глазах темнело, но она знала наизусть, что читала”) означает “выдавать и обличать всё своё” (выделено автором. - И. Е.), что составляет “тайну ее (выделено автором. - И. Е.), может быть еще с самого отрочества”. Речь, ста-
ло быть, может идти именно о совместном, соборном спасении “блудницы” и “убийцы”, сошедшихся “за чтением вечной книги”.
Одновременно возникает вопрос не только о читательской, но и исследовательской рецепции во время этого чтения. Выше нами были обозначены два возможных контекста понимания евангельского чуда воскресения. Исследователь может занять внутреннюю самому тексту Достоевского - и сформированную текстом - позицию по отношению к этому чуду, но тогда он неизбежно оказывается причастным православной традиции, которой наследует Достоевский. Именно этим, по-видимому, объясняются известные и многочисленные случаи обращения к вере читателей Достоевского.
Сравнивая Евангелие от Иоанна и те его фрагменты, которые звучат в романном мире, можно сказать, что у Достоевского болезнь Лазаря не случайно манифестирована, а строки о его смерти отсутствуют. “Был же болен некто Лазарь из Вифании…” - проговорила она. Таким образом, эксплицируется болезнь. Однако болезнь уже не как “помешательство” (аналог веры в Бога), но, напротив, болезнь как неверие (“Иисус… сказал: эта болезнь… к славе Божией” - Иоан. 11:4). Вспомним, что финальное воскресение Сони и Раскольникова наступает также после болезни. Если начало чтения Соней совпадает с началом 11-й главы Евангелия, то конец этой главы и завершение чтения в романе не совпадают. У Достоевского этот евангельский эпизод имеет следующее окончание: “Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него”. Это предложение интонировано автором, оно выделено курсивом.
Таким образом, евангельское чудо воскресения призвано воскресить к вере доселе неверующих в Христа зрителей. Сама героиня склонна сравнивать с “неверующими иудеями”, которые “через минуту, как громом пораженные, падут, зарыдают и уверуют”, самого Раскольникова («“И он, он (выделено автором. - И. Е.) - тоже ослепленный и неверующий, - он тоже сейчас услышит, он тоже уверует, да, да! сейчас же, теперь же”, - мечталось ей, и она дрожала от радостного ожидания»). Но следует обратить внимание, что, кроме Раскольникова, который “с волнением смотрел на нее”, есть еще два слушателя этого евангельского, со свечой, чтения. Один - это читатель текста Достоевского, другой - герой - Свидригайлов.
Соня и Раскольников “не знают”, что их разговор “подслушивается” двумя субъектами. Причем этот диалог “нравится” (можно говорить об эстетическом “удовольствии”) не только читателю, но и герою. Свидригайлову “разговор показался… занимательным и знаменательным и очень, очень понравился, - до того понравился, что он и стул перенес, чтобы на будущее время… не подвергаться опять неприятности простоять целый час на ногах, а устроиться покомфортнее, чтоб уж во всех отношениях получить полное удовольствие”.
Случайно ли возникает эта деталь, связанная с известным комфортом: стул? Возникает эффект театрального зрелища с актерами и зрителем. Свидригайлов прослушивает исповеди героев, а также и само евангельское чтение, будучи отделен от их мира этической и даже пространственной дистанцией: закрытой дверью.
Надо полагать, чтение Евангелия является испытанием не только для героев, предоставляя им христианскую свободу выбора пути[16], но и для читателя. Мы вовсе не хотим сказать, что Достоевский как бы принуждает читателя к насильственному участию в своего рода литургическом действе. Еще раз подчеркнем композиционную маркированность этого эпизода, свидетельствующую не о завершении пути героев к Христу, но только о начале этого пути. Однако же о “релятивности” выбора читателя, а тем более о “релятивности” авторской позиции говорить не приходится.
Таким образом, и читатель также может занять позицию внутренне причастную по отношению к евангельскому событию воскресения - и, тем самым, принять чудо воскресения, уверовать в него (всерьез отнестись к выделенной Достоевским курсивом цитате из Евангелия от Иоанна). Тем самым пасхальный архетип мира Достоевского может быть принят читателем. Напомним евангельское: “где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них” (Мф. 18:20).
Но читатель также свободен занять и позицию внешнюю по отношению к этому событию. Однако нельзя не отметить, что эта внешняя позиция уже обозначена в тексте Достоевского фигурой подслушивающего и получающего эстетическое наслаждение от прослушанного им спектакля Свидригайлова. В сюжете романа эта позиция, как известно, приводит не к воскресению героя, но к самоубийству. Если Соня и Раскольников, сошедшиеся “за чтением вечной книги”, тем самым уже мистически вовлечены в итоговое воскресение, то занявший позицию внешнего наблюдателя (театрального зрителя) этого действа Свидригайлов не случайно затем оказывается самоубийцей, потеряв надежду и на жизнь вечную: внешняя позиция по отношению к этому своего рода литургическому действу отбрасывает наблюдателя (как и читателя) за пределы соборного устремления к пасхальному воскресению. Так что сама структура романа, оставляя полную свободу читателю и исследователю в толковании текста, все-таки имеет имплицитно весьма жесткие векторы пути: свободу пасхального воскресения и свободу самоубийственной гибели.
* © Есаулов И. А., 1998
* Статья подготовлена на основе доклада, прочитанного автором на Десятом международном симпозиуме по Достоевскому (New York, Columbia University, 23 июля - 2 августа 1998 г.).
[1] Ср.: “Я… там оторвал форму от главного. Прямо не мог говорить о главных вопросах… философских, о том, чем мучился Достоевский всю жизнь - существованием Божиим. Мне ведь приходилось все время вилять - туда и обратно. Приходилось за руку себя держать… Даже церковь оговаривал” (Цит. по: Бочаров С. Г. Об одном разговоре и вокруг него // Новое литературное обозрение. 1993. № 2. С. 71-72).
[2] См., например: Захаров В. Н. Символика христианского календаря
в произведениях Достоевского // Новые аспекты в изучении Досто-
евского. Петрозаводск, 1994. С. 37-49; Достоевский и современность: Материалы IX Международных Старорусских чтений. Новгород, 1995; Достоевский: Эстетика и поэтика: Словарь-справочник. Челябинск, 1997.
[3] Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1977. С. 364.
[4] Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1988. С. 321-322.
[5] Там же. С. 322-323.
[6] Там же. С. 324.
[7] Там же. С. 328-329.
[8] Там же. С. 333.
[9] Там же. С. 334.
[10] Там же. С. 335.
[11] Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 17-18.
[12] Гадамер Х.-Г. Истина и метод. С. 336.
[13] Там же. С. 338.
[14] См.: Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995.
[15] Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык. М., 1995. С. 547-548. См. также одну из последних современных интерпретаций этих различных ценностных ориентиров: Непомнящий В. Удерживающий теперь: Феномен Пушкина и исторический жребий России // Новый мир. 1996. № 5. С. 167-169.
[16] Согласно топографическим изысканиям Г. Л. Боград, сообщенным ею в устном выступлении, “топография” комнаты Сони, имевшей “вид весьма неправильного четырехугольника”, может быть осмыслена благодаря проекции православного креста. Мы хотели бы развить ее наблюдения, обратив внимание на изменение положения персонажей относительно этого креста в различных ракурсах. Если занять внешнюю позицию по отношению к незримому в малом кругозоре героев кресту (эта позиция совпадает с точкой зрения входящего в комнату Сони Раскольникова: “мельком успел он охватить взглядом комнату”), то Свидригайлов будет находиться с правой стороны этого креста. Однако если попытаться занять внутреннюю кресту позицию, то Свидригайлов оказывается уже слева. Семантика “левого” и “правого” в христианском контексте понимания хорошо известна.