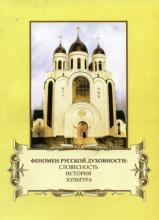И.А. Есаулов
Данная работа является продолжением наших научных изысканий последних лет, в которых можно заметить конкретизацию центрального для нас аксиологического постулата: русская литература не может быть адекватно описана, если литературовед в своей научной деятельности игнорирует, либо недооценивает те глубинные духовные токи национальной культуры, которые и питают словесность.
Но любая национальная культура имеет не только свое собственное представление о мире, свое видение мира, но и определенные духовные скрепы, столпы, которые конституируют ту или иную культурную идентичность. Речь идет об определенном минимуме признаков, минимуме системообразующих архетипов, которые и позволяют говорить о доминанте.
Русская словесность, по нашему убеждению, имеет православную соборную доминанту . В пределах данной статьи мы попытаемся предложить несколько иной ракурс, развивающий эту концепцию.
Как известно, в рамках религиозной философии начала ХХ века была вновь остро поставлена проблема русской идентичности: что такое Россия; в чем ее сущность; ее призвание и место в мире.
Так, Н. А. Бердяев в 1912 году в своей, возможно, лучшей монографии «Алексей Степанович Хомяков» присоединился к той духовно-философской традиции, согласно которой русская мысль определяется по преимуществу как религиозная: «центр русской духовной жизни — религиозный... русская тревога и русское искание в существе своем религиозны. И до наших дней все, что было и есть оригинального, творческого, значительного в нашей культуре, в нашей литературе и философии, в нашем самосознании, все это — религиозное по теме, по устремлению, по размаху. Нерелигиозная мысль у нас всегда неоригинальна, плоска, заимствована, не с ней связаны самые яркие наши таланты, не в ней нужно искать русского гения» .
Между тем гениальность православной иконописи была открыта всего около ста лет назад.
Как известно, эстетическая ценность древнерусских икон была в полной мере осознана только в начале ХХ века —
после того как мрачные «черные доски» в результате реставрации были очищены от позднейшего «черного» слоя и обрели исходную многоцветность. Тогда же было сформулировано и различие между иконичностью и иллюзионизмом как двумя различными типами визуальности. Одним из следствий выявления этой оппозиции явилось знаменитое описание П. А. Флоренским «обратной перспективы» в иконическом типе визуальности.
На первый взгляд, речь идет о различных принципах визуального «образа мира» в древнерусской иконописи и западноевропейской живописи (особенно начиная с эпохи Ренессанса). На самом же деле за экспликацией этого семантического различия можно заметить не столько акцентирование разных принципов живописи (как одного из видов искусства), сколько попытку определения особой визуальной доминанты русской культуры в целом, частью которой является русская
литература.
Поэтому критическую оценку П. А. Флоренским, Н. А. Бер¬дяевым, С. Н. Булгаковым, А. Ф. Лосевым и другими выдающимися русскими философами ХХ века основ «возрожден¬ческой культуры» любопытно было бы рассмотреть не в аспекте ее репрезентативности (или нерепрезентативности) по отношению к объекту рецепции — «возрожденческой культуре» — но как систему «оговорок», позволяющую очертить визуальную доминанту русской духовности; наметить границу между заданным этой духовностью типом культуры и другими типами культуры. Иными словами, не как во многом пристрастное определение чужой культуры, а как имплицитное самоопределение, манифестирующее определенную аксиологию, которой (сознательно или бессознательно) придерживается реципиент. Таким образом, речь идет о самоопределении — че¬рез описание «другого» — визуального кода русской культуры.
Конечно, при такой установке прежде всего манифестируются не «нейтральные» по отношению к объекту описания высказывания субъекта и, следовательно, не русская культура во всей ее сложной совокупности (с ее разнообразными и противоречивыми системами ценностей), а такого рода самоопределение субъекта, имманентного этой культуре, при котором проясняются контуры ценностного идеала этой культуры; направление ее духовного вектора.
Церковная живопись (иконопись), как известно, имеет особое значение для понимания русской культуры и русской ментальности. По выражению известного деятеля англиканской церкви, автора «Лекций по истории Восточной Церкви» А. Стенли, «икона для русского народа то же, что Библия для реформата» . Ф. И. Буслаев полагал, что «только Прологом и Святцами ограничивалось все воспитание фантазии древнерусского иконописца, не знавшего ни повестей, ни романов, ни духовных драм, всего этого поэтического обаяния, в среде которого созревало искусство на Западе. С благоговейной боязнью относились наши предки к религиозным сюжетам, не смея видоизменять их изображения, завещанные от старины, считая всякое удаление от общепринятого в иконописи такой же ересью, как изменение текста Св. Писания» .
Такое отношение к иконописному изображению объясняет и высокую степень традиционализма (как при создании, так и при рецепции икон). Понятно отсюда, что противопоставление русских икон, культивировавших верность древневосточным канонам, и западноевропейских принципов иконописи (начиная с эпохи Ренессанса) становится общим местом в сочинениях русских авторов, акцентировавших резкую разницу двух типов визуальности. По мысли того же Ф. И. Бус¬лаева, «излишнее развитие западного искусства повредило его религиозному направлению... Реформация заменила глубину религиозного вдохновения пошлою сентиментальностью» . По мнению П. А. Флоренского, «обычно забывают, что совсем разное дело — Западная Церковь до Возрождения и после Возрождения» . Корни иллюзионизма П. А. Флоренский усматривает именно в этой, переломной для западноевропейской культуры, эпохе: «Искусство Нового Времени, начинающееся Возрождением... решившее подменить созидание сим¬волов — построением подобий, это искусство, широкой дорогой приведшее к XIX веку, кажется историкам бесспорно совершенствующимся... Субъективизму нового человека свой¬ственен иллюзионизм; напротив, нет ничего столь далекого от намерений и мыслей человека средневекового... как творчество подобий и жизни среди подобий» . Упреки в чувственности, натурализме (материализме) западноевропейского искусства, а также русской иконописи в послениконианскую эпоху, настолько обычны для русских философов и исследователей, что позволяют предположить не единство научного подхода к этому вопросу, а существование особенной культурной парадигмы, границы которой и выявляются при рассмотрении звучащих имманентно ей разновременных и разностильных «голосов». При этом звучащие в XVII веке инвек¬тивы протопопа Аввакума, направленные на сторонников иконописной «новизны», обнаруживают поразительное единство аргументации с инвективами А. Ф. Лосева, русского философа ХХ столетия, которые можно прочесть в его «Эстети¬ке Возрождения».
Аввакум:
...Умножися в нашей русской земли иконного письма неподобнаго... Пишут Спасов образ Еммануила, лице одутловато, уста червонная, власы кудрявые, руки и мышцы толстыя, и весь яко немчин брюхат и толст учинен, лишо сабли той при бедре не писано. А то все писано по плотскому умыслу... <...> Не поклоняйся и ты, рабе Божий, непотребным образом, писанных по немецкому предению...
А. Лосев:
Средневековый иконописец мало интересовался реальными пропорциями человеческого тела, поскольку тело было для него только носителем духа; гармония тела заключалась для него, скорее, в аскетической обрисовке, в плоскостном отражении на нем сверхтелесного мира. Однако «Венера» Джорджоне представляет собою полноценное и самоудовлетворенное и притом женское и даже еще и обнаженное тело, которое хотя и является созданием Божиим, но о Боге уже нет никакого разговора... На первом плане здесь знание реальной анатомии... <...> В эпоху Ренессанса, который был эпохой стихийного разгула секуляризованного индивидуума... субъективизм сказался в небывало резкой форме. Все недоступные предметы религиозного почитания, которые в средне¬вековом христианстве требовали к себе абсолютно целомудренного отношения, становятся в эпоху Ренессанса чем-то очень доступным и психологически чрезвычайно близким, так что изображение такого рода возвышенных предметов приобретает здесь
в самом настоящем смысле натуралистический и панибратский характер. <...> О том, что возрожденческие мадонны уже давно перестали быть иконами, а становились светскими портретами,
и притом определенного типа дам, так или иначе близких художнику, об этом знают все.
Е. Н. Трубецкой, сочувственно цитируя другое высказывание протопопа Аввакума: «Старые добрые изографы писали не так подобие святых: лицо и руки и все чувства отончали, измождали от поста и труда, и всякия скорби. А вы ныне подобия их изменили, пишите таковых же, каковы сами», — обосновывает тем самым соображение, что «икона не портрет, а прообраз грядущего храмового человечества... <...> Исключено все то, что могло бы сделать Спасителя и святых похожими «на таковых же, каковы мы сами». Размышляя об «отталкивающей силе» иконы, Е. Н. Трубецкой замечает: «Чувство острой тошноты, которое я испытал при виде Рубенсовских вакханалий, тотчас объяснило мне то самое свойство икон, о котором я думал: вакханалия и есть крайнее олицетворение той жизни, которое отталкивается иконой» .
Кажется, что такими высказываниями легко пренебречь как «субъективными» и «неадекватными», абсолютно внеположными изучаемому объекту. Однако более продуктивной представляется другая исследовательская установка, при которой эти определения характеризуют, возможно, не столько определяемый предмет, сколько ментальность и тип культуры, к которому относится реципиент.
Интереснее в данном случае не адекватность/неадекват¬ность непосредственной речевой экспликации, а понимание той имплицитной культурной установки, того этико-эстети¬ческого скрытого и не всегда осознаваемого реципиентами глубинного подтекста, согласно которому наиболее распространенный в современной культуре тип визуальности решительно отвергается как недолжный иллюзионизм, как такого рода внешнее подобие, которое затрудняет зрителю подлинное проникновение, молитвенное созерцание потаенного, внутреннего мира создаваемых визуальных образов. Поэтому можно утверждать, что приведенные выше суждения адекватны, но для того типа культуры и того типа сознания, в которых иконичность иерархически выше иллюзионизма. При этом предмет внимания, принадлежащий иному типу культуры, основывающейся на ином иерархическом соотношении, помещается в аксиологическое поле, родственное субъекту описания.
В определенном смысле подобная исследовательская установка всегда наличествует при истолковании культурных феноменов. После работ М. Хайдеггера и Х.-Г. Гадамера нет необходимости специально доказывать, что беспредпосылочного («чистого») понимания попросту не существует. Однако острота столкновения может быть менее и более острой и зависит от степени расхождения ценностных ориентиров ментальности исследователя и системы аксиологии той культуры, которую он описывает. Вероятно, в нашем случае наличествует второй, более «конфликтный», вариант соотношения.
По не так давно высказанному мнению Л. А. Успенского, исследователя, работавшего в западноевропейском культурном окружении, но пытавшегося понять своеобразие русской культуры (поэтому здесь можно говорить о работе на границах культур), начиная с Ренессанса, западноевропейские изображения Святой Троицы «наглядно выражают неприемлемое для православия восприятие основного догмата христианства... <...> Выражается то, что невыразимо, изображается то, что неизобразимо» .
Для русской ментальности весьма репрезентативно суждение С. Н. Булгакова, созерцающего Сикстинскую Мадонну после принятия им священства:
К чему таить и лукавить: я не увидал Богоматери. Здесь — красо¬та, лишь дивная человеческая красота, с ее религиозной двусмысленностью, но... безблагодатность. Молиться пред этим изображением? — да это хула и невозможность! <...> Это не есть образ Богоматери, Пречистой Приснодевы, не есть Ее икона. Это — кар¬тина, сверхчеловечески гениальная, однако, совсем иного смысла и содержания, нежели икона. Здесь явление прекрасной женственности в высшем образе жертвенного самоотдания, но «челове¬ческим, слишком человеческим», кажется оно. Грядет твердой человеческой поступью по густым, тяжелым облакам, словно по талому снегу, юная мать с вещим младенцем. Это, может быть, даже и не Дева, а просто прекрасная молодая женщина, полная обаяния, красоты и мудрости... <...> В аскетическом символизме строгого иконного письма ведь заключается, прежде всего, сознательное отвержение и преодоление этого натурализма, как негодного и неуместного, и просвечивает видение сверхприродного, благодатного состояния мира. Поэтому икона не имеет отношения к портретности, ибо в ней неизбежно таится натурализм... <...> Этим определяется судьба всего Ренессанса как в живописи, так и в скульптуре и архитектуре. Он создал искусство человеческой гениальности, но не религиозного откровения. Его красота не есть святость, но то двусмысленное, демоническое начало, которое при-крывает пустоту, и улыбка его играет на устах Леонардовских героев. <...> Про эту красоту Ренессанса нельзя сказать, чтобы она могла «спасти мир», ибо она сама нуждается в спасении... <...>
В изображении Мадонны неуловимо ощущается... мужское чувство, мужская влюбленность и похоть .
В этом и других суждениях можно констатировать резкое неприятие смешения — вплоть до отождествления — иконич¬ности с иллюзионизмом, внешним правдоподобием, «похо¬жестью» на посюсторонний для созерцающего, но «потусто¬ронний» — с позиции, имманентной самой иконе , мир земных форм — именно тех, которые окружают этого созерцателя в его мирской, бытовой жизни. Тогда как в «должном» для данного типа культуры иконическом изображении акцентируется принципиальная визуальная двуплановость, за которой стоит представление о принципиальной двуплановости мира в его целом. Существует мир явлений (но это, скорее, не субстанциальная, а именно иллюзорная — в силу соотнесенности со временем, а не с вечностью реальность) и наличествует гораздо более значимая сакральная сфера, которую можно узреть и к которой можно приобщиться (но можно и остаться лишь в пределах лишенного вневременного измерения и эсхатологической перспективы — и в этом смысле иллюзорного — однопланового земного мира).
С данной позиции неприятие русскими православными философами иного типа культуры, началом которой условно можно считать ренессансную эпоху, можно интерпретировать как отталкивание от совмещения потустороннего и посюстороннего образов мира; неприемлемость самой возможности секуляризации сакральной сферы. Конечно, при таком подходе секуляризация сакрального не может пониматься иначе, как профанация духовного измерения в целом, как такое «упрощение», при котором принципиально двуплановый мир деградирует в направлении отказа от «незримого», «невы¬разимого», в конечном же итоге — от духовного спасения к ил¬люзорной земной прагматике.
В своем пределе это манифестация такого типа культуры, где оказывается принципиально невозможной вполне адекватная экспликация «самого главного» (причем не только живописными средствами, но и посредством слова). Сакральное не может быть вполне передано визуальным рядом как объект изображения. Поэтому необходим не гносеологический подход к этому «объекту», предполагающий своего рода «погоню» за постоянно ускользающим предметом изображения и познания, а особая онтологическая установка, при которой оказывается возможным «обойти» жесткость субъектно-объектных отношений вообще — скажем, посредством того же молитвенного созерцания.
Отсюда понятно, что известное тютчевское выражение «Мысль изреченная есть ложь» может быть понято как вполне выражающая данный тип культуры формула отказа от экспликации «самого главного» (то есть невозможно внешнее отношение к этому «главному», только и позволяющее его эксплицировать целиком и без остатка — дистанцируя от него ядро собственной личности, свой лик). Вербализация мысли, ее словесное оплотнение (изречение) является всегда более или менее иллюзорным; это всегда искажение, всегда «ложь».
И наоборот, предполагается, что благо — это аскетический отказ от вербализации (как и от попыток подмены иконичности — иллюзионизмом). Проявления этой особенности русской культурной традиции можно обнаружить на самом разнообразном материале, будь то фольклорный источник (поговорка «слово — серебро, молчание — золото» ), либо авторские тексты, созданные в русле того же типа культуры. Причем русское молчание (тишина) как состояние должной духовной сосредоточенности часто противопоставляется иноземной суетной шумливости — как некоему недолжному состоянию (не-тишине).
Это и пушкинское «Народ безмолвствует», и молчание Христа — в ответ на логически стройные тирады Великого Инквизитора у Достоевского, и множество иных не менее знаменитых случаев. Эта черта проявляется иной раз даже в произведениях батальной тематики:
Прилег вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый...
Как замечает А. М. Панченко, «в действительности это невероятно: громадные русские армии и на Куликовом (ранее исследователем было приведено соответствующее описание безымянным автором „Сказания о Мамаевом побоище“ тишины в русском стане. — И. Е.), и на Бородинском поле не могли пребывать „в тихости великой“. Эти поразительно похожие сцены порождены национальной топикой» .
Несколько иную разновидность того же предпочтения мож¬но обнаружить в стихотворении Мандельштама «Silentium»:
Да обретут мои уста
Первоначальную немоту,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!
В этом жестко заданном национальной аксиологией культурном контексте попытки русского символизма напрямую соединить теургическое начало и искусство — в рамках «теур¬гического искусства» — вряд ли можно понимать как восстановление доминанты русской культуры — после отказа от сакрального измерения в конце XIX века у художников-пе¬редвижников, в произведениях продолжателей «натуральной школы» и эпигонов «реализма». Скорее, символизм в России функционально реализовал многие основополагающие аксиологические установки исторически «пропущенного» данным типом культуры западноевропейского Ренессанса, то есть именно такого начала, которое, вероятно, не могло ранее оказать сколько-нибудь значительное воздействие на развитие культуры в России не только в силу роковых внеэстетических обстоятельств, но и оттого, что ренессансная секуляризация сакральной сферы принципиально внеположна магистральному вектору русского типа культуры.
В этом смысле символизм представляет собой великий переворот в сложившейся культурной традиции, чрезвычайно интересный, прежде всего, глобальным смещением эстетической доминанты русской культуры. Поэтому значение сим
волизма для данного типа культуры совершенно не сводимо к функционированию узко понятого литературного направления, к появлению и угасанию одного из многих художественных направлений. Русский символизм — это такая зона бифуркации, для которой характерен переход от иконического типа визуальности к иллюзионизму.
Весьма продуктивно определение О. Мандельштамом русского символизма как особого вида «наивного западничества» . Характерна констатация Н. Гумилева: «Русский символизм направил свои главные силы в область неведомого. Попеременно он братался то с теософией, то с оккультизмом» . Конечно, для иконического типа, к которому тяготеет русская культура, «братания» русского символизма есть не что иное, как метафизический бунт против Богом данного мира, подхваченный и развитый затем эстетикой футуризма. Именно поэтому попытки символистов — при помощи эзотерических учений — познать непознаваемое для данного типа культуры, по выражению того же Н. Гумилева, «нецелому-дренны» . Как заметила позже А. Ахматова, «и теософию, и антропософию не люблю... все это мне чуждо. Я, как православная христианка, отрицаю это, осуждаю и не понимаю» . С имманентной основному вектору русской культуры позиции, «дантов код русского символизма» может быть прочитан как попытка глобального перехода к иному типу культуры, основывающемуся на иллюзионистской визуальности.
В данном контексте понимания «преодоление символизма» — это преодоление искушения мифотворцев и создателей «нового религиозного сознания» (вероятно, новым это сознание можно считать только на фоне иконической парадигмы) возвыситься над миром посредством замены онтологического принципа исихазма гносеологическим познанием; это отказ от тщательно укрываемых от других «тайн», проникнуть в которые могут только «посвященные».
Акмеизм предполагает не движение от духа к материи, как это зачастую представляют, но от развоплощения духа к его воплощению. Однако не самовольными усилиями поэта-«демиурга», но целомудренным и трепетным описанием художника, который «к потустороннему относится с огромной сдержанностью» . Именно эта «сдержанность» и роднит акмеизм с доминировавшим в русской культуре до эпохи символизма иконическим типом визуальности.
Н. Я. Мандельштам полагала, что «акмеизм был не чисто литературным, а главным образом мировоззренческим объ¬единением». Тогда как «символисты, все до единого, были под влиянием Шопенгауэра и Ницше и либо отказывались от христианства, либо пытались реформировать его (выделено мной. — И. Е.) собственными силами», акмеисты, напротив, «начисто отказались от какого бы то ни было пересмотра христианства». Закономерно, что для акмеистов, ориентированных на иную, более традиционную для России, культурную парадигму, «теории старших, называвших себя символистами, звучали кощунством» .
С. С. Аверинцев, склонный считать, что концепция Н. Я. Мандельштам «представляет собой просто миф, имеющий как и всякий миф, определенное отношение к действительности» в своей попытке «перевести его на более рациональный язык», скорее, лишь дополнительно аргументирует «миф» Н. Я. Мандельштам, нежели в чем-то существенном опровергает его. Так, он констатирует «религиозную неразборчивость» символистов и «стратегию борьбы против инфляции религиозных мотивов» у Гумилева, Ахматовой и Мандельштама .
Если понимать символизм как одну из вариаций иллюзионизма (которая для русской культуры явилась своего рода зоной флуктуации), то акмеизм представляет собой не вполне реализованную попытку возвращения к иконическому видению мира — в лоно иконического типа культуры.
В целом же, по-видимому, отличие русской словесности ХХ века от предшествующих исторических периодов состоит — в аспекте поставленной темы — в том, что иконическое начало не только утрачивает позицию культурной доминанты, но и приобретает несвойственную ему ранее функцию субдоминантного фона для наиболее могучих художественных направлений этого века — символизма и авангарда. Однако несомненный факт сосуществования в рамках одного хронологического периода самых различных эстетических ориентаций свидетельствует о резком усилении диссипативности в русской культуре. Отсутствие же плюралистических (или релятивных) моделей мира в иконическом типе культуры, резко сменившееся одновременным сосуществованием самых различных и противостоящих друг другу эстетических ориентаций, привело к такого рода «культурному взрыву» в начале ХХ века, который, создав «выжженное поле» на месте былой иконической культуры, в очень скором времени завершился утверждением абсолютного монологизма — в тоталитарной эстетике «социалистического реализма». Вопрос же о том, какое визуальное начало доминирует в соцреализме, корни какой культурной традиции питают искусство тоталитарных систем, иллюзионизм либо иконичность формирует визуальный код соцреализма, пока остается открытым и требует дополнительных исследований.
* © Есаулов И. А., 1998. Эта и другие статьи И. А. Есаулова, представленные в настоящем издании, являются фрагментами большого исследования автора “Культурная традиция как контекст понимания”.
[1] Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995.
[2] Бердяев Н. А. Алексей Степанович Хомяков. М., 1912. С. 4.
[3] Здесь и далее иконичность понимается не в более распространенном расширительном значении, но в соответствии с определенной научной традицией в более узком и более строгом смысле как “онтологическое, антиномичное единство явлений Божественного и тварного мира, благодаря которому невидимое становится видимым, а человеческое причастным Божественному” (Лепахин В. Летопись как икона всемирной истории (по “Повести временных лет”) // Вестник русского христианского движения. № 171. Париж - Нью-Йорк - Москва, 1995. С. 30-42.).
[4] Флоренский П. А. Обратная перспектива: Сочинения. Т. 2: У водоразделов мысли. М., 1990. С. 43-106.
[5] Ср.: Снегирев И. М. Взгляд на православное иконописание // Философия русского религиозного искусства. М., 1993. С. 101-112.
[6] Буслаев Ф. И. О литературе. М., 1990. С. 385.
[7] Там же. С. 378.
[8] Флоренский П. А. Иконостас. М., 1994. С. 97.
[9] Он же. У водоразделов мысли. С. 57, 59.
[10] Аввакум. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное,
и другие его сочинения. Иркутск, 1979. С. 89, 91.
[11] Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982. С. 54, 112.
[12] Трубецкой Е. Н. Умозрение в красках. Смысл жизни. М., 1994. С. 229, 230, 235.
[13] Успенский Л. А. Богословие иконы Православной Церкви. М., 1989. С. 460.
[14] Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. Париж, 1991. С. 106-108.
[15] Ср.: Успенский Б. А. Семиотика искусства. М., 1995. С. 221-303.
[16] Конечно, мы вовсе не хотим сказать, что иерархия подобного типа является исключительной прерогативой русского фольклора. Но в рассматриваемом нами случае она, по-видимому, имеет не ситуативный,
а именно доминантный для русского православного типа культуры характер.
[17] Лермонтов М. Ю. Полное собрание стихотворений. М., 1989. Т. 2. С. 12.
[18] Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. Л., 1984. С. 202-203.
[19] Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 71.
[20] Мандельштам О. Т. 2. С. 264.
[21] Гумилев Н. С. Сочинения: В 3 т. Т. 3. М., 1991. С. 18.
[22] Там же. С. 19.
[23] Ср.: Струве Н. А. Бог Ахматовой // Православие и культура. М., 1992. С. 243-245.
[24] Ср.: Силард Л., Барта П. Дантов код русского символизма. Studia Slavica Hungarica. Budapest, 1989. 35/1-2, 61-95.
[25] Мандельштам О. Т. 2. С. 145.
[26] Мандельштам Н. Я. Вторая книга. М., 1990. С. 42-43.
[27] Аверинцев С. С. Судьба и весть Осипа Мандельштама // Ман-дельштам О. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 23, 26, 28.
[28] Ср.: Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992.